Интеграция клинического стадирования заболевания и феноменологической психопатологии
Представляем вашему вниманию перевод статьи из медицинского журнала "The Lancet". "Интеграция клинического стадирования заболевания и феноменологической психопатологии для придания глубины, тонкости и полезности клиническому фенотипированию: Эвристический вызов" (Integrating clinical staging and phenomenological psychopathology to add depth, nuance, and utility to clinical phenotyping: a heuristic challenge) Авторы:Barnaby Nelson, Patrick D. McGorry, Anthony Fernandez. Дата публикации: 19.11.2020. Оригинал статьи здесь. Перевод выполнен Анастасией Плохих для группы "Секта свидетелей психической нормы" при поддержке Нины Соловьевой.
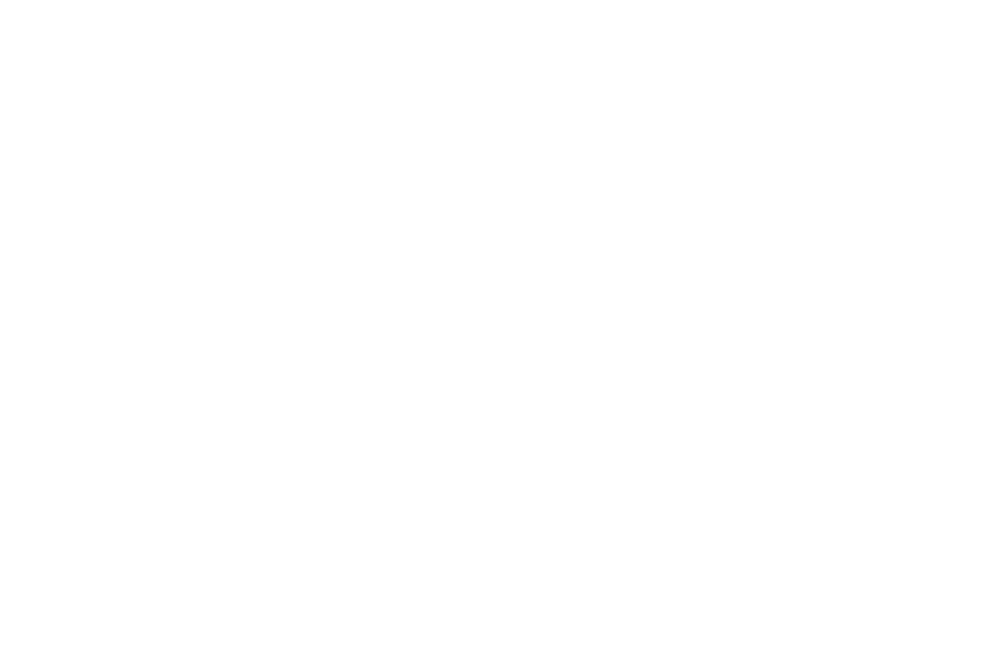
Психиатрия стала свидетелем новой волны подходов к клиническому фенотипированию и изучению психопатологии, включая проект «Критерии исследовательской области» Национального института психического здоровья, определение клинической стадии заболевания (clinical staging), сетевые подходы, иерархическую таксономию психопатологии и общий фактор психопатологии, а также возрождение интереса к феноменологической психопатологии. Естественно возникает вопрос, какова взаимосвязь между этими новыми подходами: являются ли они взаимоисключающими, конкурирующими подходами, или они могут быть каким-то образом интегрированы и использованы для обогащения друг друга? В этом обзоре мы предлагаем возможную интеграцию клинической стадии (clinical staging) и феноменологической психопатологии. Области, идентифицированные в феноменологической психопатологии, такие как самость (selfhood), воплощенность (embodiment), аффективность (affectivity) и т. д., могут быть наложены на клинические стадии, чтобы обогатить и углубить фенотипы, зафиксированные в клинических стадиях (клинические фенотипы «высокого разрешения»). Этот подход может быть полезен как идеографически, так и номотетически, поскольку он может дополнять диагностику, обогащать клиническую формулировку и влиять на лечение отдельных пациентов, а также помогать в этиологических исследованиях, исследованиях в области прогнозирования и лечения. Наложение феноменологических областей на клинические стадии может потребовать, чтобы эти области были переформулированы в измерительные (dimensional), а не категориальные (categorial) термины. Этот интегративный проект требует критерии оценки, которые достаточно чувствительны и основательны, чтобы охватить весь спектр соответствующей психопатологии. Предлагаемый подход предлагает возможности для взаимообогащения: клиническая стадия может быть улучшена за счет более глубокого изучения фенотипов; феноменологическая психопатология может быть обогащена путем введения в феноменологический анализ стадий тяжести и прогрессирования расстройства.
В недавней публикации Май (1) утверждает, что в психиатрии, в отличие от других медицинских специальностей, информация, передаваемая диагнозом, сама по себе недостаточна для терапевтических и прогностических целей. Май утверждает, что, следовательно, существует острая необходимость в более детальной клинической характеризации отдельного случая и что эта область должна начать продвигать создание и валидацию инструментов, которые методично направляют клинициста и исследователя в определении характеристик. Эта область стала свидетелем новой волны подходов к исследованию психопатологии, включая проект «Критерии исследовательской области» (RDoC) Национального института психического здоровья (NIMH), определение клинической стадии, сетевые подходы, иерархическую таксономию психопатологии (HiToP) и общие фактор психопатологии («П»), а также возрождение интереса к феноменологической психопатологии. Некоторые из этих подходов были представлены как «альтернативы» подходу DSM/МКБ к психиатрической диагностике на том основании, что они более надежны и полезны в этиологических исследованиях и при принятии решений о лечении (1-3). Май, однако, утверждает, что они на самом деле вряд ли заменят текущую диагностическую практику, но могут дополнить текущие диагнозы, значительно улучшив клиническую характеристику отдельных случаев и групп пациентов (то есть клиническое фенотипирование).
Естественно возникает вопрос, какова взаимосвязь между этими новыми подходами: являются ли они взаимоисключающими, конкурирующими подходами, или они могут быть каким-то образом интегрированы и использованы для взаимообогащения с целью более подробного и удобного клинического фенотипирования?
В этом обзоре мы предлагаем возможную интеграцию клинической стадии (clinical staging) и феноменологической психопатологии. Хотя здесь основное внимание уделяется изучению возможности интеграции этих двух подходов, аналогичный вопрос можно задать в отношении других подходов (например, отношения между RDoC и HiTOP). Мы утверждаем, что такая интеграция имеет два ключевых преимущества для клинического стадирования: 1) это добавляет глубину и нюансы к стадийным клиническим фенотипам; 2) это способствует как идиографическому, так и номотетическому пониманию рассматриваемого состояния (то есть пониманию конкретного пациента и более общего состояния). Чтобы объяснить это предложение, мы кратко опишем модель клинической стадийности и подход феноменологической психопатологии, в частности, как ее можно применить в пространственных терминах, прежде чем перейти к их потенциальной интеграции.
В недавней публикации Май (1) утверждает, что в психиатрии, в отличие от других медицинских специальностей, информация, передаваемая диагнозом, сама по себе недостаточна для терапевтических и прогностических целей. Май утверждает, что, следовательно, существует острая необходимость в более детальной клинической характеризации отдельного случая и что эта область должна начать продвигать создание и валидацию инструментов, которые методично направляют клинициста и исследователя в определении характеристик. Эта область стала свидетелем новой волны подходов к исследованию психопатологии, включая проект «Критерии исследовательской области» (RDoC) Национального института психического здоровья (NIMH), определение клинической стадии, сетевые подходы, иерархическую таксономию психопатологии (HiToP) и общие фактор психопатологии («П»), а также возрождение интереса к феноменологической психопатологии. Некоторые из этих подходов были представлены как «альтернативы» подходу DSM/МКБ к психиатрической диагностике на том основании, что они более надежны и полезны в этиологических исследованиях и при принятии решений о лечении (1-3). Май, однако, утверждает, что они на самом деле вряд ли заменят текущую диагностическую практику, но могут дополнить текущие диагнозы, значительно улучшив клиническую характеристику отдельных случаев и групп пациентов (то есть клиническое фенотипирование).
Естественно возникает вопрос, какова взаимосвязь между этими новыми подходами: являются ли они взаимоисключающими, конкурирующими подходами, или они могут быть каким-то образом интегрированы и использованы для взаимообогащения с целью более подробного и удобного клинического фенотипирования?
В этом обзоре мы предлагаем возможную интеграцию клинической стадии (clinical staging) и феноменологической психопатологии. Хотя здесь основное внимание уделяется изучению возможности интеграции этих двух подходов, аналогичный вопрос можно задать в отношении других подходов (например, отношения между RDoC и HiTOP). Мы утверждаем, что такая интеграция имеет два ключевых преимущества для клинического стадирования: 1) это добавляет глубину и нюансы к стадийным клиническим фенотипам; 2) это способствует как идиографическому, так и номотетическому пониманию рассматриваемого состояния (то есть пониманию конкретного пациента и более общего состояния). Чтобы объяснить это предложение, мы кратко опишем модель клинической стадийности и подход феноменологической психопатологии, в частности, как ее можно применить в пространственных терминах, прежде чем перейти к их потенциальной интеграции.
Вкратце, клиническая стадийность старается определить положение человека в континууме болезни, определяемом по стадиям: Стадия 0 = нет текущих симптомов, Стадия 1а = обращение за помощью с дистрессом, Стадия 1b = ослабленный (т.е. подпороговый) синдром, Стадии 2-4 = полное пороговое расстройство с различной степенью рецидива и тяжести (см. Рисунок 1а для иллюстрации. ) (3-5). Хотя критерии, безусловно, можно использовать для определения этих клинических стадий [например, см. (6-9)], часть клинической привлекательности модели стадирования заключается в том, что клиническую стадию можно легко оценить на основе тяжести и протяженности симптомов. Клиническое стадирование использует квази-размерный подход к симптоматике, оно описывает ступенчатые изменения в добавок к непрерывной трансдиагностической симптоматике, чтобы быть ориентиром в принятии решения о лечении, прогнозировании и этиологических исследованиях. Как показано на Рисунке 1 (блок A), клиническое стадирование использует трансдиагностический подход, выделяя стадии болезни по проявлениям симптомов (психоз, настроение, симптомы тревоги и т. д.), вместо того, чтобы привязываться к традиционным диагностическим категориям. Это учитывает смешанные клинические проявления и высокие уровни сопутствующей патологии, часто наблюдаемые, особенно на ранних стадиях расстройства, а также колеблющаяся и гетеротипическая клиническая динамика (например, клинические проявления Стадии 1b, характеризующиеся тревожными и эмоциональными симптомами, развивающимися в расстройство Стадии 2 с выраженными психотическими симптомами) (3, 10, 11). В отличие от DSM/МКБ, клиническое стадирование, в принципе, позволяет индивидуализировать лечение, основанное на конкретных комбинациях симптомов и их степени тяжести и дифференциации (например, в то время как пациента на стадии 1b с ослабленными психотическими симптомами и симптомами расстройства настроения можно лечить с помощью когнитивно-поведенческой терапии и приемом антидепрессантов, пациента со стадией 2 с преобладающими психотическими симптомами можно лечить антипсихотическими препаратами и психосоциальной поддержкой). Однако, хотя концепции, лежащие в основе клинического стадирования, являются обоснованными, для его успеха необходимо, чтобы симптомы были четко описаны и определены. Другими словами, персонализированные вмешательства и прогресс в прогнозировании и этиологических исследованиях, обещанные клиническим стадированием, вероятно, потребуют «высокого разрешения» отражения психиатрических симптомов и признаков, то есть фенотипической глубины и нюансов (12). Мы утверждаем, что эту фенотипическую глубину и нюанс может обеспечить феноменологическая психопатология.
Возникнув из философской традиции феноменологии, феноменологическая психопатология представляет собой междисциплинарную исследовательскую программу, которая описывает и классифицирует нарушения переживания (experiential disturbances) при психических расстройствах (т.е. характерные черты переживания и проявления психических расстройств) (13) [см. Приложение, стр.2]. Феноменологические психопатологи часто действуют в рамках категориальных рамок, формулируя нарушения переживания, характерные, например, для биполярного расстройства или шизофрении. Однако многие феноменологические психопатологи разделяют скептицизм психиатров в отношении современных диагностических категорий (13). Некоторые из этих исследователей теперь используют феноменологию, чтобы различать нарушения опыта как внутри, так и между традиционными диагностическими категориями. В отличие от подхода DSM/МКБ и, возможно, новых подходов к клинических описаний, таких как RDoC и HiToP, феноменологическая психопатология основана на четко сформулированных представлениях о «нормальном» или «здоровом» опыте. Таким образом, вместо того, чтобы начинать исследование с категории DSM/МКБ, эти исследования обычно начинаются с основных, базовых черт человеческой субъективности, которые были идентифицированы в феноменологической традиции. Эти совпадающие черты считаются формирующими или составляющими сознательную жизнь. Некоторые из структур опыта, обычно изучаемых феноменологическими психопатологами:
1. самость, включая неявное чувство обладания и влияния на свой опыт и поведение, а также нарративное построение социальной идентичности;
2. интерсубъективность, включая способность воспринимать других людей и взаимодействовать с ними как с что-то выражающими субъектами, а не как с простыми объектами;
3. воплощенность (embodiment), включая способность переключаться между ощущениями своего тела как силы взаимодействия с миром (Leib) и как материального объекта (Körper);
4. аффективность, включая резонанс и настройку на окружающую среду через настроения и эмоции;
5. понимание, в том числе способ автоматической интерпретации и осмысления повседневных предметов и окружающей среды;
6. темпоральность, включая подразумеваемое ожидание и удержание опыта, которое составляет прожитый поток времени; и
7. пространственность, в том числе способность оценить и действовать в различных нормативных пространствах, таких как пространство дома, театра, класса и так далее. Термин «экзистенциальные структуры» используется для обозначения этих характеристик, поскольку считается, что они структурируют или организуют наш опыт (14–16) [см. Приложение, стр. 1].
Каждая экзистенциальная структура имеет широкий диапазон состояний, в которых она может находиться для данного человека в данное время. Например, экзистенциальная структура аффективности может выражаться в тревоге, скуке или радости, экзистенциальная структура темпоральности может выражаться в нетерпеливом ожидании или медленном течении времени. Более того, экзистенциальные структуры могут подвергаться более фундаментальным нарушениям. Например, человек может частично потерять способность эмоционально настраиваться через настроения; или, в случае темпоральности, человек может подвергнуться фундаментальному нарушению своей способности удерживать и предвосхищать переживания. Как правило, феноменологические психопатологи опознают экзистенциальную структуру (или набор экзистенциальных структур), чтобы создать рамку для своего исследования, но они стремятся описать конкретный способ, которым она проявляется в рассматриваемом состоянии. Например, Мартин и его коллеги (17) исследовали биполярное расстройство через призму темпоральности и сосредоточились на конкретных способах нарушения восприятия времени при этом расстройстве и на том, как эти нарушения могут негативно повлиять на понимание и рассуждение в маниакальных эпизодах.
1. самость, включая неявное чувство обладания и влияния на свой опыт и поведение, а также нарративное построение социальной идентичности;
2. интерсубъективность, включая способность воспринимать других людей и взаимодействовать с ними как с что-то выражающими субъектами, а не как с простыми объектами;
3. воплощенность (embodiment), включая способность переключаться между ощущениями своего тела как силы взаимодействия с миром (Leib) и как материального объекта (Körper);
4. аффективность, включая резонанс и настройку на окружающую среду через настроения и эмоции;
5. понимание, в том числе способ автоматической интерпретации и осмысления повседневных предметов и окружающей среды;
6. темпоральность, включая подразумеваемое ожидание и удержание опыта, которое составляет прожитый поток времени; и
7. пространственность, в том числе способность оценить и действовать в различных нормативных пространствах, таких как пространство дома, театра, класса и так далее. Термин «экзистенциальные структуры» используется для обозначения этих характеристик, поскольку считается, что они структурируют или организуют наш опыт (14–16) [см. Приложение, стр. 1].
Каждая экзистенциальная структура имеет широкий диапазон состояний, в которых она может находиться для данного человека в данное время. Например, экзистенциальная структура аффективности может выражаться в тревоге, скуке или радости, экзистенциальная структура темпоральности может выражаться в нетерпеливом ожидании или медленном течении времени. Более того, экзистенциальные структуры могут подвергаться более фундаментальным нарушениям. Например, человек может частично потерять способность эмоционально настраиваться через настроения; или, в случае темпоральности, человек может подвергнуться фундаментальному нарушению своей способности удерживать и предвосхищать переживания. Как правило, феноменологические психопатологи опознают экзистенциальную структуру (или набор экзистенциальных структур), чтобы создать рамку для своего исследования, но они стремятся описать конкретный способ, которым она проявляется в рассматриваемом состоянии. Например, Мартин и его коллеги (17) исследовали биполярное расстройство через призму темпоральности и сосредоточились на конкретных способах нарушения восприятия времени при этом расстройстве и на том, как эти нарушения могут негативно повлиять на понимание и рассуждение в маниакальных эпизодах.
Экзистенциальные структуры могут формировать области для пространственных феноменологических исследований, которые в некотором смысле аналогичны областям RDoC (полное обсуждение этого предложения см. в (14, 18)). В последние годы были разработаны инструменты [например, Исследование аномального собственного опыта (EASE) (19) и Исследование аномального мирового опыта (EAWE) (20)], которые содействуют этому подходу и предоставляют количественные показатели типа и степени серьезности феноменологических нарушений. Области можно разделить на конструкции и субконструкции. Например, область самости обычно делится на конструкции базового «я» (предрефлексивный, неявный уровень самости) и нарративного «я» (личность, социальная идентичность, привычки, стиль, личная история и т. д.). Базовое «я» может быть далее организовано в субконструкции познания и потока сознания, самосознания и присутствия, телесных переживаний, демаркации границы «я»/мир и экзистенциальной ориентации, как это отражено в разделах инструмента EASE. Затем в рамках феноменологического исследования в отношении конкретного пациента или категории пациентов будут изучены нарушения переживания внутри каждой из этих субконструкций.
Проиллюстрируем этот подход, кратко резюмируя два недавних исследования. Сасс и Пиенкос (21) изучали личность через призму шизофрении, меланхолии и мании. Они обнаружили, что границы Я/мир были нестабильными в исследуемых условиях, но фундаментально разными способами: усиливались при меланхолии, ослаблялись при мании и шизофрении, но первые имели экстатический или доброжелательный тон настроения, а вторые - солипсизм и эрозию взглядов от первого лица (erosion of first-person perspective) В этом случае результаты подтвердили текущие диагностические границы. Рэтклифф (22), напротив, изучал темпоральность при большом депрессивном расстройстве. Он обнаружил, что ощущение времени при депрессии нарушается совершенно по-другому. Пациенты различались по одному или нескольким конструкциям, связанным с потерей драйва/импульса, потерей будущих планов и потерей смысла будущего. Эти данные указывают на глубокую неоднородность диагностической категории большого депрессивного расстройства и предоставляют предварительные данные о подтипах в этой категории (22). Эти типы исследований перенимают пространственную исследовательскую конструкцию, анализируя конкретные способы, которыми конкретная феноменологическая область («экзистенциальная структура») может быть нарушена по диагностическим категориям и внутри них (то есть серьезность и специфические особенности этого нарушения). Временно отодвинув диагностические границы в сторону, использование этой линзы анализа может отразить определенные нарушения экзистенциальных структур (например, самость, темпоральность), которые являются общими для разных состояний, выделить различия между состояниями или выявить подтипы в рамках определенной диагностической категории.
Суть нынешнего предложения состоит в том, что этот многомерный феноменологический анализ психопатологии может быть наложен поверх клинических стадий. То есть нарушения экзистенциальных структур, их конструкций и субконструкций можно анализировать в контексте серьезности расстройства и стадии прогрессирования. На рисунке 1 представлена эвристическая иллюстрация того, как этот подход может быть реализован. В то время как панель A представляет модель клинической стадии в ее нынешнем виде, панель B показывает эвристические примеры того, как нарушения конкретных экзистенциальных структур могут развиваться на разных стадиях расстройства. Эти закономерности или траектории на разных стадиях могут различаться в зависимости от пациента и типа расстройства, изменение типа расстройства показано на этой анимации: https://s6.gifyu.com/images/animation-40b881647ef7dcebb.gif. На этой иллюстрации, например, нарушения самости в частности характерны для расстройств шизофренического спектра и становятся более выраженными по мере того, как стадии расстройства становятся более глубокими (см. (23) для предварительного эмпирического подтверждения этой связи между нарушениями самости и стадией расстройства, особенно на ранних стадиях). Этот анализ можно детализировать, исследуя конструкции в области самости. Текущие данные, например, предполагают, что конструкция базового «я» особенно актуальна для расстройств шизофренического спектра, в то время как конструкция нарративного «я» более уместна для пограничного расстройства личности (24–26). Как именно эта взаимосвязь между экзистенциальной структурой и синдромом соотносится или развивается на разных стадиях психического расстройства, является эмпирическим вопросом, поднятым предлагаемой интегративной моделью.
Проиллюстрируем этот подход, кратко резюмируя два недавних исследования. Сасс и Пиенкос (21) изучали личность через призму шизофрении, меланхолии и мании. Они обнаружили, что границы Я/мир были нестабильными в исследуемых условиях, но фундаментально разными способами: усиливались при меланхолии, ослаблялись при мании и шизофрении, но первые имели экстатический или доброжелательный тон настроения, а вторые - солипсизм и эрозию взглядов от первого лица (erosion of first-person perspective) В этом случае результаты подтвердили текущие диагностические границы. Рэтклифф (22), напротив, изучал темпоральность при большом депрессивном расстройстве. Он обнаружил, что ощущение времени при депрессии нарушается совершенно по-другому. Пациенты различались по одному или нескольким конструкциям, связанным с потерей драйва/импульса, потерей будущих планов и потерей смысла будущего. Эти данные указывают на глубокую неоднородность диагностической категории большого депрессивного расстройства и предоставляют предварительные данные о подтипах в этой категории (22). Эти типы исследований перенимают пространственную исследовательскую конструкцию, анализируя конкретные способы, которыми конкретная феноменологическая область («экзистенциальная структура») может быть нарушена по диагностическим категориям и внутри них (то есть серьезность и специфические особенности этого нарушения). Временно отодвинув диагностические границы в сторону, использование этой линзы анализа может отразить определенные нарушения экзистенциальных структур (например, самость, темпоральность), которые являются общими для разных состояний, выделить различия между состояниями или выявить подтипы в рамках определенной диагностической категории.
Суть нынешнего предложения состоит в том, что этот многомерный феноменологический анализ психопатологии может быть наложен поверх клинических стадий. То есть нарушения экзистенциальных структур, их конструкций и субконструкций можно анализировать в контексте серьезности расстройства и стадии прогрессирования. На рисунке 1 представлена эвристическая иллюстрация того, как этот подход может быть реализован. В то время как панель A представляет модель клинической стадии в ее нынешнем виде, панель B показывает эвристические примеры того, как нарушения конкретных экзистенциальных структур могут развиваться на разных стадиях расстройства. Эти закономерности или траектории на разных стадиях могут различаться в зависимости от пациента и типа расстройства, изменение типа расстройства показано на этой анимации: https://s6.gifyu.com/images/animation-40b881647ef7dcebb.gif. На этой иллюстрации, например, нарушения самости в частности характерны для расстройств шизофренического спектра и становятся более выраженными по мере того, как стадии расстройства становятся более глубокими (см. (23) для предварительного эмпирического подтверждения этой связи между нарушениями самости и стадией расстройства, особенно на ранних стадиях). Этот анализ можно детализировать, исследуя конструкции в области самости. Текущие данные, например, предполагают, что конструкция базового «я» особенно актуальна для расстройств шизофренического спектра, в то время как конструкция нарративного «я» более уместна для пограничного расстройства личности (24–26). Как именно эта взаимосвязь между экзистенциальной структурой и синдромом соотносится или развивается на разных стадиях психического расстройства, является эмпирическим вопросом, поднятым предлагаемой интегративной моделью.
Pисунок 1 Текст: Эвристическая диаграмма того, как экзистенциальные структуры, возникающие из феноменологической психопатологии, могут быть наложены на клинические стадии. Блок A показывает модель клинического стадирования в его нынешнем виде. Блок B показывает эвристические примеры того, как нарушения конкретных экзистенциальных структур могут развиваться через стадии расстройства.
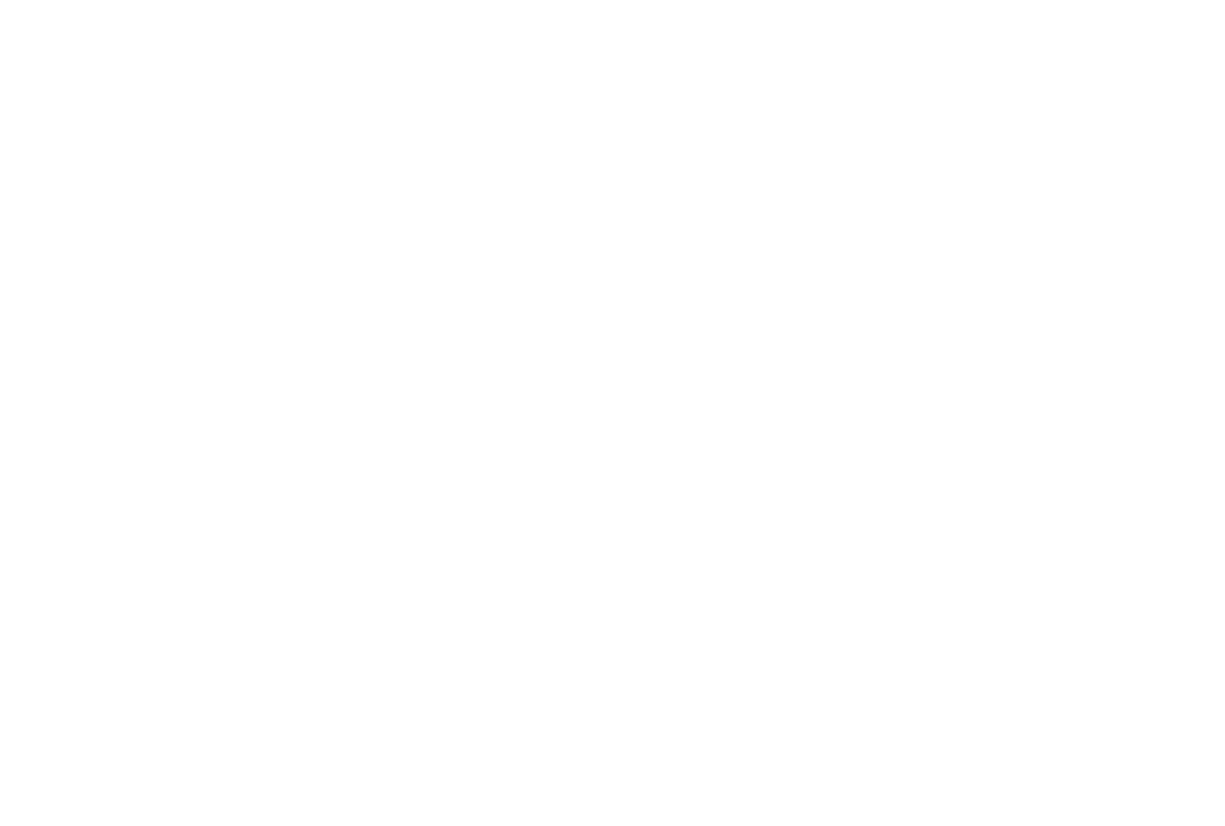
Хотя может показаться, что клиническое стадирование и феноменологическая психопатология могут с первого взгляда быть интегрированы в соответствии с этими принципами, каковы преимущества этого? Мы видим как минимум два преимущества:
1. Интеграция клинического стадирования и феноменологической психопатологии может обеспечить различные уровни глубины фенотипического описания в зависимости от клинического или исследовательского контекста (12). Например, присвоение клинической стадии конкретному пациенту или группе пациентов является полезным условным обозначением в некоторых клинических контекстах для краткого описания тяжести заболевания (например, «Это клиническая картина 2 стадии», то есть первый эпизод серьезного психического расстройства). Такое использование клинической стадии фактически уже применяется в некоторых государственных службах охраны психического здоровья, например в конце каждой консультации пациента в центрах охраны психического здоровья молодежи Headspace (27). Однако описание нарушений экзистенциальных структур (феноменологическая психопатология) явно предоставит более подробную информацию о конкретных психопатологических нарушениях, переживаемых пациентом (то есть, это улучшит фенотипическое "разрешение" и глубину). В некотором смысле это может быть аналогично дополнению описания подачи жалоб указанием на определенные основные убеждения (психологическая формулировка) и/или результаты биомедицинских тестов (медицинская формулировка), однако акцент здесь делается на детальной характеристике клинического фенотипа, а не на выявлении потенциальных причин, влияющих на этот фенотип. См. Пример в Таблице 1 - в данном случае клиническая характеристика пациента на трех уровнях детализации: 1. Стадия 2 расстройство, 2 Тяжелые психотические плюс-симптомы и умеренное подавленное настроение, 3. Основное нарушение селф (self-disturbance), нарушение темпоральности и интерсубъективности.
Этот подход «высокого разрешения», фиксирующий клиническую стадию и психопатологические детали, также может быть полезен в других контекстах, таких как разработка подробных формулировок случая или построение планов лечения. Например, пациент с расстройством 3 стадии, характеризующимся стойко тяжелым депрессивным настроением и нарушениями интерсубъективности, может указывать на клиническую значимость нарушенных межличностных привязанностей и неглекта в течение процесса развития (что делает его/ее предрасположенным к нарушениям межличностных отношений) и трудность установления устойчивых отношений с людьми из лечащей бригады (фактор, который способствовал прогрессированию стадии за счет уменьшения воздействия лечения). Другим примером может быть план лечения для пациента на стадии 1b с ослабленными психотическими симптомами и зависимостью от психоактивных веществ с выраженными базовыми нарушениями селф (self-disturbance), который состоит из комплексного психосоциального лечения, детоксикации и реабилитации от психоактивных веществ (адаптация лечения к стадии расстройства), в сочетании с элементами лечения, которые нацелены на конкретные нарушения переживаний, характерные для базового нарушения селф, такие как содействие ясному присутствию с помощью телесно-ориентированных стратегий, иммерсивной активности и физических упражнений, а также "разговорной терапии", которая подчеркивает сдвиг в обще структуре опыта, а не конкретное содержание познания (28, 29).
1. Интеграция клинического стадирования и феноменологической психопатологии может обеспечить различные уровни глубины фенотипического описания в зависимости от клинического или исследовательского контекста (12). Например, присвоение клинической стадии конкретному пациенту или группе пациентов является полезным условным обозначением в некоторых клинических контекстах для краткого описания тяжести заболевания (например, «Это клиническая картина 2 стадии», то есть первый эпизод серьезного психического расстройства). Такое использование клинической стадии фактически уже применяется в некоторых государственных службах охраны психического здоровья, например в конце каждой консультации пациента в центрах охраны психического здоровья молодежи Headspace (27). Однако описание нарушений экзистенциальных структур (феноменологическая психопатология) явно предоставит более подробную информацию о конкретных психопатологических нарушениях, переживаемых пациентом (то есть, это улучшит фенотипическое "разрешение" и глубину). В некотором смысле это может быть аналогично дополнению описания подачи жалоб указанием на определенные основные убеждения (психологическая формулировка) и/или результаты биомедицинских тестов (медицинская формулировка), однако акцент здесь делается на детальной характеристике клинического фенотипа, а не на выявлении потенциальных причин, влияющих на этот фенотип. См. Пример в Таблице 1 - в данном случае клиническая характеристика пациента на трех уровнях детализации: 1. Стадия 2 расстройство, 2 Тяжелые психотические плюс-симптомы и умеренное подавленное настроение, 3. Основное нарушение селф (self-disturbance), нарушение темпоральности и интерсубъективности.
Этот подход «высокого разрешения», фиксирующий клиническую стадию и психопатологические детали, также может быть полезен в других контекстах, таких как разработка подробных формулировок случая или построение планов лечения. Например, пациент с расстройством 3 стадии, характеризующимся стойко тяжелым депрессивным настроением и нарушениями интерсубъективности, может указывать на клиническую значимость нарушенных межличностных привязанностей и неглекта в течение процесса развития (что делает его/ее предрасположенным к нарушениям межличностных отношений) и трудность установления устойчивых отношений с людьми из лечащей бригады (фактор, который способствовал прогрессированию стадии за счет уменьшения воздействия лечения). Другим примером может быть план лечения для пациента на стадии 1b с ослабленными психотическими симптомами и зависимостью от психоактивных веществ с выраженными базовыми нарушениями селф (self-disturbance), который состоит из комплексного психосоциального лечения, детоксикации и реабилитации от психоактивных веществ (адаптация лечения к стадии расстройства), в сочетании с элементами лечения, которые нацелены на конкретные нарушения переживаний, характерные для базового нарушения селф, такие как содействие ясному присутствию с помощью телесно-ориентированных стратегий, иммерсивной активности и физических упражнений, а также "разговорной терапии", которая подчеркивает сдвиг в обще структуре опыта, а не конкретное содержание познания (28, 29).
Таблица 1. Эвристика того, как можно обобщить диагноз, чтобы объединить клиническую стадию с феноменологическим фенотипом
Повышение детализации и глубины
Повышение детализации и глубины
Диагностическая деталь/Diagnostic detail
Уровень диагностической информации/Level of diagnostic information
Пример
1.
Стадия расстройства
Стадия 2
2.
Симптомы / признаки
Тяжелые острые плюс- симптомы
Легкое подавленное настроение
Легкое подавленное настроение
3.
Феноменологические нарушения («экзистенциальные структуры»)
Базовые нарушения селф
Нарушенная темпоральность
Нарушение интерсубъективности
Нарушенная темпоральность
Нарушение интерсубъективности
2. Интеграция клинической стадии и феноменологической психопатологии может проводиться как на идиографическом, так и на номотетическом уровне. То есть стадия расстройства и нарушения экзистенциальных структур могут быть зафиксированы для конкретного пациента, как показано в клинических сценариях, описанных выше. Однако интеграция может также применяться на уровне синдромов или расстройств, возможно, представляя полезную основу для научных исследований. Исследователь может сформулировать вопрос фенотипического исследования, руководствуясь этим комплексным подходом, например, связано ли определенное сочетание стадии заболевания и нарушений экзистенциальной структуры с определенным кластером симптомов (например, связано ли расстройство 2 стадии в сочетании с выраженными нарушениями самости и эмбодимента с психотическими симптомами первого ранга?). На основе этого анализа могут возникнуть психологические или нейрокогнитивные гипотезы относительно этиологии симптомов. Точно так же комплексный подход клинической стадии и феноменологической психопатологии может использоваться в исследованиях стратификации риска (например, пациенты стадии 1b с выраженными нарушениями аффективности и эмбодимента могут быть стратифицированы по повышенному риску прогрессирования до расстройства настроения стадии 2) и исследованиям, ориентированным на структуры (mechanism-focused studies) (например, связаны ли определенные дисфункции нейронных сетей с определенным сочетанием стадии болезни и нарушений переживания?). Хотя феноменологические фенотипы и клиническая стадия уже использовались независимо как руководство и для организации исследований биомаркеров и исследований, ориентированных на структуры (30-41), интеграция этих подходов может максимизировать эти усилия. Биомаркеры и структуры могут варьироваться не только в зависимости от клинической стадии или нарушения конкретных экзистенциальных структур, но и от их комбинации. Например, недавно мы обнаружили, что феноменологический фенотип базового нарушения селф и нейрокогнитивные и нейрофизиологические показатели нарушений мониторинга источников (source monitoring disturbances) варьировались в зависимости от стадии психотического расстройства (становясь более серьезным по мере прогрессирования расстройства), и что корреляция между этими двумя уровнями анализа также стала усиливается по мере прогрессирования расстройства (т. е. существует взаимодействие между стадией расстройства, феноменологическим фенотипом и нейронным коррелятом) (30, 31).
Очевидно, что существует ряд проблем, которые необходимо будет преодолеть для реализации комплексного подхода, описанного выше, и мы не предлагаем, чтобы этот подход был готов к «прайм-тайму». Во-первых, это проблема достаточной осведомленности и обучения феноменологически обоснованной оценке психопатологии. Как было отмечено рядом авторов [например, см. (42-44)], в настоящее время это недостаток многих программ обучения психиатрии / клинической психологии. Второй связанный с этим вопрос - это надежность между оценщиками. Насколько надежно могут быть реализованы эти более подробные и тонкие подходы к оценке? На сегодняшний день данные в этом отношении весьма обнадеживают. Например, EASE, EAWE и Шкала Бонна для оценки психопатологии (BSABS) продемонстрировали коэффициенты надежности по одному пункту от умеренного до сильного (0,6-1,0) (19, 20, 45), безусловно, сопоставимые с обычно используемыми инструментами клинической оценки, такие как Краткая психиатрическая рейтинговая шкала [BPRS (46, 47)] или Шкала социального и профессионального функционирования [SOFAS (48)], и намного превосходит структурированные диагностические интервью, проводимые не клиниками (49). Эти данные о надежности были получены в хорошо подготовленных и научно-ориентированных условиях. Возможно, вопрос должен заключаться не столько в том, как эти оценки "высокого разрешения" могут быть перенесены в повседневную клиническую практику, а в том, как мы можем обеспечить широкое распространение сложного обучения психопатологии и применение точных инструментов идентификации для скрининга и направления их в специализированные центры для дальнейшего рассмотрения и диагностического уточнения при необходимости. Последней проблемой, связанной с двумя другими, является риск того, что предлагаемый интегрированный подход приведет к сложности, которая является громоздкой в клинических условиях. Вместо того, чтобы преждевременно отказываться от исследования модели из-за этого риска, мы предлагаем сначала протестировать ее в специализированных условиях, таких как службы раннего вмешательства.
Очевидно, что существует ряд проблем, которые необходимо будет преодолеть для реализации комплексного подхода, описанного выше, и мы не предлагаем, чтобы этот подход был готов к «прайм-тайму». Во-первых, это проблема достаточной осведомленности и обучения феноменологически обоснованной оценке психопатологии. Как было отмечено рядом авторов [например, см. (42-44)], в настоящее время это недостаток многих программ обучения психиатрии / клинической психологии. Второй связанный с этим вопрос - это надежность между оценщиками. Насколько надежно могут быть реализованы эти более подробные и тонкие подходы к оценке? На сегодняшний день данные в этом отношении весьма обнадеживают. Например, EASE, EAWE и Шкала Бонна для оценки психопатологии (BSABS) продемонстрировали коэффициенты надежности по одному пункту от умеренного до сильного (0,6-1,0) (19, 20, 45), безусловно, сопоставимые с обычно используемыми инструментами клинической оценки, такие как Краткая психиатрическая рейтинговая шкала [BPRS (46, 47)] или Шкала социального и профессионального функционирования [SOFAS (48)], и намного превосходит структурированные диагностические интервью, проводимые не клиниками (49). Эти данные о надежности были получены в хорошо подготовленных и научно-ориентированных условиях. Возможно, вопрос должен заключаться не столько в том, как эти оценки "высокого разрешения" могут быть перенесены в повседневную клиническую практику, а в том, как мы можем обеспечить широкое распространение сложного обучения психопатологии и применение точных инструментов идентификации для скрининга и направления их в специализированные центры для дальнейшего рассмотрения и диагностического уточнения при необходимости. Последней проблемой, связанной с двумя другими, является риск того, что предлагаемый интегрированный подход приведет к сложности, которая является громоздкой в клинических условиях. Вместо того, чтобы преждевременно отказываться от исследования модели из-за этого риска, мы предлагаем сначала протестировать ее в специализированных условиях, таких как службы раннего вмешательства.
Заключение
В этом обзоре мы рассмотрели точки пересечения клинического стадирования (clinical staging) и феноменологической психопатологической точки зрения на клиническое фенотипирование. Области, идентифицированные в феноменологической психопатологии, такие как самость (selfhood), воплощенность (embodiment), аффективность (affectivity) и т. д., могут быть наложены на клинические стадии, чтобы обогатить и углубить фенотипы, зафиксированные в клиническом стадировании (клинические фенотипы «высокого разрешения»). Это может иметь значение для дополнения диагноза, улучшения клинической формулировки и информирования о лечении отдельных пациентов. Это также может помочь в исследованиях этиологии, прогноза и лечения. Наложение феноменологических областей на клинические стадии может потребовать, чтобы эти области были переформулированы в пространственных (dimensional), а не категориальных (categorial) терминах. Для этого интегративный проект нужны инструменты оценки, которые достаточно чувствительны и основательны, чтобы охватить весь спектр соответствующей психопатологии. Некоторые из этих инструментов уже доступны, например EASE, EAWE, BSABS и Система AMDP: Руководство по оценке и документированию психопатологии в психиатрии. К наложению основанных на континууме феноменологических концепций на клинические стадии также необходимо подходить осторожно, чтобы не "разбивать" гештальт-концепции, такие как нарушения селф или нарушение мира (self- or world- disturbance), которые основываются на определенных неделимых отношениях между частями (отдельные симптомы/знаки) и целым (общий структурный сдвиг в переживании/выражении) на атомистические элементы, которые теряют свое психопатологическое значение в процессе [см. Приложение, стр.1]. Интергация, которую мы представляем предлагает возможности для взаимообогащения: клиническое стадирование может быть улучшено за счет более глубокого изучения фенотипов; феноменологическая психопатология может быть обогащена путем введения в феноменологический анализ стадий тяжести и прогрессирования расстройства.
В этом обзоре мы рассмотрели точки пересечения клинического стадирования (clinical staging) и феноменологической психопатологической точки зрения на клиническое фенотипирование. Области, идентифицированные в феноменологической психопатологии, такие как самость (selfhood), воплощенность (embodiment), аффективность (affectivity) и т. д., могут быть наложены на клинические стадии, чтобы обогатить и углубить фенотипы, зафиксированные в клиническом стадировании (клинические фенотипы «высокого разрешения»). Это может иметь значение для дополнения диагноза, улучшения клинической формулировки и информирования о лечении отдельных пациентов. Это также может помочь в исследованиях этиологии, прогноза и лечения. Наложение феноменологических областей на клинические стадии может потребовать, чтобы эти области были переформулированы в пространственных (dimensional), а не категориальных (categorial) терминах. Для этого интегративный проект нужны инструменты оценки, которые достаточно чувствительны и основательны, чтобы охватить весь спектр соответствующей психопатологии. Некоторые из этих инструментов уже доступны, например EASE, EAWE, BSABS и Система AMDP: Руководство по оценке и документированию психопатологии в психиатрии. К наложению основанных на континууме феноменологических концепций на клинические стадии также необходимо подходить осторожно, чтобы не "разбивать" гештальт-концепции, такие как нарушения селф или нарушение мира (self- or world- disturbance), которые основываются на определенных неделимых отношениях между частями (отдельные симптомы/знаки) и целым (общий структурный сдвиг в переживании/выражении) на атомистические элементы, которые теряют свое психопатологическое значение в процессе [см. Приложение, стр.1]. Интергация, которую мы представляем предлагает возможности для взаимообогащения: клиническое стадирование может быть улучшено за счет более глубокого изучения фенотипов; феноменологическая психопатология может быть обогащена путем введения в феноменологический анализ стадий тяжести и прогрессирования расстройства.
Список литературы
1. Maj M. Beyond diagnosis in psychiatric practice. Ann Gen Psychiatry. 2020;19:27.
2. McGorry PD. The next stage for diagnosis: validity through utility. World Psychiatry. 2013;12(3):213-5.
3. McGorry PD, Hartmann JA, Spooner R, Nelson B. Beyond the "at risk mental state" concept: transitioning to transdiagnostic psychiatry. World Psychiatry. 2018;17(2):133-42.
4. McGorry PD, Hickie IB, Yung AR, Pantelis C, Jackson HJ. Clinical staging of psychiatric disorders: a heuristic framework for choosing earlier, safer and more effective interventions. Aust N Z J Psychiatry. 2006;40(8):616-22.
5. McGorry PD. Issues for DSM-V: clinical staging: a heuristic pathway to valid nosology and safer, more effective treatment in psychiatry. Am J Psychiatry. 2007;164(6):859-60.
6. Hartmann JA, Nelson B, Spooner R, et al. Broad clinical high-risk mental state (CHARMS): Methodology of a cohort study validating criteria for pluripotent risk. Early Interv Psychiatry. 2019;13(3):379-86.
7. Purcell R, Jorm AF, Hickie IB, et al. Transitions Study of predictors of illness progression in young people with mental ill health: study methodology. Early Interv Psychiatry. 2015;9(1):38-47.
8. Addington J, Liu L, Goldstein BI, et al. Clinical staging for youth at-risk for serious mental illness. Early Interv Psychiatry. 2019;13(6):1416-23.
9. Iorfino F, Scott EM, Carpenter JS, et al. Clinical Stage Transitions in Persons Aged 12 to 25 Years Presenting to Early Intervention Mental Health Services With Anxiety, Mood, and Psychotic Disorders. JAMA Psychiatry. 2019.
10. Shah JL, Scott, J., McGorry, P.D., Cross, S.P.M., Keshavan, M., Nelson, B., Wood, S.J.,
Marwaha, S., Yung, A.R., Scott, E.M., Öngür, D., Conus, P., Henry, C., Hickie, I.B., for the International Working Group on Transdiagnostic Clinical Staging in Youth Mental Health. Transdiagnostic clinical staging in youth mental health: A first international consensus statement. World Psychiatry. 2020;19(2):233-42.
11. Shah JL. Bringing Clinical Staging to Youth Mental Health: From Concept to Operationalization (and Back Again). JAMA Psychiatry. 2019.
12. Nelson B, Hartmann JA, Parnas J. Detail, dynamics and depth: useful correctives for some current research trends. Br J Psychiatry. 2018;212(5):262-4.
13. Stanghellini G, Broome MR, Fernandez AV, Fusar-Poli P, Raballo A, Rosfort R, editors. The Oxford Handbook of Phenomenological Psychopathology. Oxford: Oxford UP; 2019.
14. Fernandez AV. Phenomenology and Dimensional Approaches to Psychiatric Research and Classification. Philosophy, Psychiatry, and Psychology. 2019;26(1):65-75.
15. Fernandez AV, Køster A. On the Subject Matter of Phenomenological Psychopathology. In: Stanghellini G, Broome M, Fernandez AV, Fusar-Poli P, Raballo A, Rosfort R, editors. The Oxford Handbook of Phenomenological Psychopathology. Oxford: Oxford University Press; 2019. p. 191–204.
16. Fernandez AV. The Subject Matter of Phenomenological Research: Existentials, Modes, and Prejudices. Synthese. 2017;194(9):3543-62.
17. Martin W, Gergel T, Owen GS. Manic temporality. Philos Psychol. 2018;32(1):72-97.
18. Fernandez AV. Clarifying a Dimensional Approach to Phenomenological Psychopathology. Philosophy, Psychiatry, and Psychology. 2019;26(1):81-5.
19. Parnas J, Moller P, Kircher T, et al. EASE: Examination of Anomalous Self-Experience. Psychopathology. 2005;38(5):236-58.
20. Sass L, Pienkos E, Skodlar B, et al. EAWE: Examination of Anomalous World Experience. Psychopathology. 2017;50(1):10-54.
21. Sass L, Pienkos E. Varieties of self experience: A comparative phenomenology of melancholia, mania, and schizophrenia, Part I. Journal of Consciousness Studies. 2013;20:103-30.
22. Ratcliffe M. Varieties of temporal experience in depression. J Med Philos. 2012;37(2):114-38.
23. Raballo A, Monducci E, Ferrara M, Fiori Nastro P, Dario C, group R. Developmental vulnerability to psychosis: Selective aggregation of basic self-disturbance in early onset schizophrenia. Schizophr Res. 2018;201:367-72.
24. Zandersen M, Parnas J. Borderline personality disorder or a disorder within the schizophrenia spectrum? A psychopathological study. World Psychiatry. 2019;18(1):109-10.
25. Zandersen M, Parnas J. Identity Disturbance, Feelings of Emptiness, and the Boundaries of the Schizophrenia Spectrum. Schizophr Bull. 2019;45(1):106-13.
26. Nelson B, Thompson A, Chanen AM, Amminger GP, Yung AR. Is basic self-disturbance in ultra-high risk for psychosis ('prodromal') patients associated with borderline personality pathology? Early Interv Psychiatry. 2013;7(3):306-10.
27. Rickwood DJ, Telford NR, Parker AG, Tanti CJ, McGorry PD. headspace - Australia's innovation in youth mental health: who are the clients and why are they presenting? Med J Aust. 2014;200(2):108-11.
28. Sass L. Three Dangers: Phenomenological Reflections on the Psychotherapy of Psychosis. Psychopathology. 2019;52(2):126-34.
29. Nelson B, Torregrossa L, Thompson A, et al. Improving treatments for psychotic disorders: Beyond cognitive behaviour therapy for psychosis. Psychosis. 2020;In press.
30. Nelson B, Lavoie S, Gaweda L, et al. The neurophenomenology of early psychosis: An integrative empirical study. Conscious Cogn. 2020;77:102845.
31. Nelson B, Lavoie S, Gaweda L, et al. Testing a neurophenomenological model of basic self disturbance in early psychosis. World Psychiatry. 2019;18(1):104-5.
32. Sestito M, Raballo A, Umilta MA, et al. Mirroring the self: testing neurophysiological correlates of disturbed self-experience in schizophrenia spectrum. Psychopathology. 2015;48(3):184-91.
33. Sestito M, Raballo A, Stanghellini G, Gallese V. Editorial: Embodying the Self: Neurophysiological Perspectives on the Psychopathology of Anomalous Bodily Experiences. Front Hum Neurosci. 2017;11:631.
34. Martin B, Wittmann M, Franck N, Cermolacce M, Berna F, Giersch A. Temporal structure of consciousness and minimal self in schizophrenia. Frontiers in psychology. 2014;5:1175.
35. Martin B, Franck N, Cermolacce M, et al. Fragile temporal prediction in patients with schizophrenia is related to minimal self disorders. Sci Rep. 2017;7(1):8278.
36. Martin B, Franck N, Cermolacce M, Coull JT, Giersch A. Minimal Self and Timing Disorders in Schizophrenia: A Case Report. Front Hum Neurosci. 2018;12:132.
37. Schultze-Lutter F, Debbane M, Theodoridou A, et al. Revisiting the Basic Symptom Concept: Toward Translating Risk Symptoms for Psychosis into Neurobiological Targets. Front Psychiatry. 2016;7:9.
38. Poletti M, Gebhardt E, Raballo A. Corollary Discharge, Self-agency, and the Neurodevelopment of the Psychotic Mind. JAMA Psychiatry. 2017;74(11):1169-70.
39. Bonoldi I, Allen P, Madeira L, et al. Basic Self-Disturbances Related to Reduced Anterior Cingulate Volume in Subjects at Ultra-High Risk for Psychosis. Front Psychiatry. 2019;10:254.
40. Wood SJ, Yung AR, McGorry PD, Pantelis C. Neuroimaging and treatment evidence for clinical staging in psychotic disorders: from the at-risk mental state to chronic schizophrenia. Biol Psychiatry. 2011;70(7):619-25.
41. McGorry P, Keshavan M, Goldstone S, et al. Biomarkers and clinical staging in psychiatry. World Psychiatry. 2014;13(3):211-23.
42. Andreasen NC. DSM and the death of phenomenology in america: an example of unintended consequences. Schizophr Bull. 2007;33(1):108-12.
43. Mullen PE. A modest proposal for another phenomenological approach to psychopathology. Schizophr Bull. 2007;33(1):113-21.
44. Parnas J, Gallagher S. Phenomenology and the interpretation of psychopathological experience. In: Kirmayer LJ, Leemelson R, Cummings CA, editors. Re-visioning psychiatry: Cultural phenomenology, critical neuroscience and global mental health. New York: Cambridge University Press; 2015. p. 65-80.
45. Vollmer-Larsen A, Handest P, Parnas J. Reliability of measuring anomalous experience: the Bonn Scale for the Assessment of Basic Symptoms. Psychopathology. 2007;40(5):345-8.
46. Flemenbaum A, Zimmermann RL. Inter- and intra-rater reliability of the Brief Psychiatric Rating Scale. Psychol Rep. 1973;32(3):783-92.
47. Bell M, Milstein R, Beam-Goulet J, Lysaker P, Cicchetti D. The Positive and Negative Syndrome Scale and the Brief Psychiatric Rating Scale. Reliability, comparability, and predictive validity. J Nerv Ment Dis. 1992;180(11):723-8.
48. Morosini PL, Magliano L, Brambilla L, Ugolini S, Pioli R. Development, reliability and acceptability of a new version of the DSM-IV Social and Occupational Functioning Assessment Scale (SOFAS) to assess routine social functioning. Acta Psychiatr Scand. 2000;101(4):323-9.
49. Nordgaard J, Revsbech R, Saebye D, Parnas J. Assessing the diagnostic validity of a structured psychiatric interview in a first-admission hospital sample. World Psychiatry. 2012;11(3):181-5.
1. Maj M. Beyond diagnosis in psychiatric practice. Ann Gen Psychiatry. 2020;19:27.
2. McGorry PD. The next stage for diagnosis: validity through utility. World Psychiatry. 2013;12(3):213-5.
3. McGorry PD, Hartmann JA, Spooner R, Nelson B. Beyond the "at risk mental state" concept: transitioning to transdiagnostic psychiatry. World Psychiatry. 2018;17(2):133-42.
4. McGorry PD, Hickie IB, Yung AR, Pantelis C, Jackson HJ. Clinical staging of psychiatric disorders: a heuristic framework for choosing earlier, safer and more effective interventions. Aust N Z J Psychiatry. 2006;40(8):616-22.
5. McGorry PD. Issues for DSM-V: clinical staging: a heuristic pathway to valid nosology and safer, more effective treatment in psychiatry. Am J Psychiatry. 2007;164(6):859-60.
6. Hartmann JA, Nelson B, Spooner R, et al. Broad clinical high-risk mental state (CHARMS): Methodology of a cohort study validating criteria for pluripotent risk. Early Interv Psychiatry. 2019;13(3):379-86.
7. Purcell R, Jorm AF, Hickie IB, et al. Transitions Study of predictors of illness progression in young people with mental ill health: study methodology. Early Interv Psychiatry. 2015;9(1):38-47.
8. Addington J, Liu L, Goldstein BI, et al. Clinical staging for youth at-risk for serious mental illness. Early Interv Psychiatry. 2019;13(6):1416-23.
9. Iorfino F, Scott EM, Carpenter JS, et al. Clinical Stage Transitions in Persons Aged 12 to 25 Years Presenting to Early Intervention Mental Health Services With Anxiety, Mood, and Psychotic Disorders. JAMA Psychiatry. 2019.
10. Shah JL, Scott, J., McGorry, P.D., Cross, S.P.M., Keshavan, M., Nelson, B., Wood, S.J.,
Marwaha, S., Yung, A.R., Scott, E.M., Öngür, D., Conus, P., Henry, C., Hickie, I.B., for the International Working Group on Transdiagnostic Clinical Staging in Youth Mental Health. Transdiagnostic clinical staging in youth mental health: A first international consensus statement. World Psychiatry. 2020;19(2):233-42.
11. Shah JL. Bringing Clinical Staging to Youth Mental Health: From Concept to Operationalization (and Back Again). JAMA Psychiatry. 2019.
12. Nelson B, Hartmann JA, Parnas J. Detail, dynamics and depth: useful correctives for some current research trends. Br J Psychiatry. 2018;212(5):262-4.
13. Stanghellini G, Broome MR, Fernandez AV, Fusar-Poli P, Raballo A, Rosfort R, editors. The Oxford Handbook of Phenomenological Psychopathology. Oxford: Oxford UP; 2019.
14. Fernandez AV. Phenomenology and Dimensional Approaches to Psychiatric Research and Classification. Philosophy, Psychiatry, and Psychology. 2019;26(1):65-75.
15. Fernandez AV, Køster A. On the Subject Matter of Phenomenological Psychopathology. In: Stanghellini G, Broome M, Fernandez AV, Fusar-Poli P, Raballo A, Rosfort R, editors. The Oxford Handbook of Phenomenological Psychopathology. Oxford: Oxford University Press; 2019. p. 191–204.
16. Fernandez AV. The Subject Matter of Phenomenological Research: Existentials, Modes, and Prejudices. Synthese. 2017;194(9):3543-62.
17. Martin W, Gergel T, Owen GS. Manic temporality. Philos Psychol. 2018;32(1):72-97.
18. Fernandez AV. Clarifying a Dimensional Approach to Phenomenological Psychopathology. Philosophy, Psychiatry, and Psychology. 2019;26(1):81-5.
19. Parnas J, Moller P, Kircher T, et al. EASE: Examination of Anomalous Self-Experience. Psychopathology. 2005;38(5):236-58.
20. Sass L, Pienkos E, Skodlar B, et al. EAWE: Examination of Anomalous World Experience. Psychopathology. 2017;50(1):10-54.
21. Sass L, Pienkos E. Varieties of self experience: A comparative phenomenology of melancholia, mania, and schizophrenia, Part I. Journal of Consciousness Studies. 2013;20:103-30.
22. Ratcliffe M. Varieties of temporal experience in depression. J Med Philos. 2012;37(2):114-38.
23. Raballo A, Monducci E, Ferrara M, Fiori Nastro P, Dario C, group R. Developmental vulnerability to psychosis: Selective aggregation of basic self-disturbance in early onset schizophrenia. Schizophr Res. 2018;201:367-72.
24. Zandersen M, Parnas J. Borderline personality disorder or a disorder within the schizophrenia spectrum? A psychopathological study. World Psychiatry. 2019;18(1):109-10.
25. Zandersen M, Parnas J. Identity Disturbance, Feelings of Emptiness, and the Boundaries of the Schizophrenia Spectrum. Schizophr Bull. 2019;45(1):106-13.
26. Nelson B, Thompson A, Chanen AM, Amminger GP, Yung AR. Is basic self-disturbance in ultra-high risk for psychosis ('prodromal') patients associated with borderline personality pathology? Early Interv Psychiatry. 2013;7(3):306-10.
27. Rickwood DJ, Telford NR, Parker AG, Tanti CJ, McGorry PD. headspace - Australia's innovation in youth mental health: who are the clients and why are they presenting? Med J Aust. 2014;200(2):108-11.
28. Sass L. Three Dangers: Phenomenological Reflections on the Psychotherapy of Psychosis. Psychopathology. 2019;52(2):126-34.
29. Nelson B, Torregrossa L, Thompson A, et al. Improving treatments for psychotic disorders: Beyond cognitive behaviour therapy for psychosis. Psychosis. 2020;In press.
30. Nelson B, Lavoie S, Gaweda L, et al. The neurophenomenology of early psychosis: An integrative empirical study. Conscious Cogn. 2020;77:102845.
31. Nelson B, Lavoie S, Gaweda L, et al. Testing a neurophenomenological model of basic self disturbance in early psychosis. World Psychiatry. 2019;18(1):104-5.
32. Sestito M, Raballo A, Umilta MA, et al. Mirroring the self: testing neurophysiological correlates of disturbed self-experience in schizophrenia spectrum. Psychopathology. 2015;48(3):184-91.
33. Sestito M, Raballo A, Stanghellini G, Gallese V. Editorial: Embodying the Self: Neurophysiological Perspectives on the Psychopathology of Anomalous Bodily Experiences. Front Hum Neurosci. 2017;11:631.
34. Martin B, Wittmann M, Franck N, Cermolacce M, Berna F, Giersch A. Temporal structure of consciousness and minimal self in schizophrenia. Frontiers in psychology. 2014;5:1175.
35. Martin B, Franck N, Cermolacce M, et al. Fragile temporal prediction in patients with schizophrenia is related to minimal self disorders. Sci Rep. 2017;7(1):8278.
36. Martin B, Franck N, Cermolacce M, Coull JT, Giersch A. Minimal Self and Timing Disorders in Schizophrenia: A Case Report. Front Hum Neurosci. 2018;12:132.
37. Schultze-Lutter F, Debbane M, Theodoridou A, et al. Revisiting the Basic Symptom Concept: Toward Translating Risk Symptoms for Psychosis into Neurobiological Targets. Front Psychiatry. 2016;7:9.
38. Poletti M, Gebhardt E, Raballo A. Corollary Discharge, Self-agency, and the Neurodevelopment of the Psychotic Mind. JAMA Psychiatry. 2017;74(11):1169-70.
39. Bonoldi I, Allen P, Madeira L, et al. Basic Self-Disturbances Related to Reduced Anterior Cingulate Volume in Subjects at Ultra-High Risk for Psychosis. Front Psychiatry. 2019;10:254.
40. Wood SJ, Yung AR, McGorry PD, Pantelis C. Neuroimaging and treatment evidence for clinical staging in psychotic disorders: from the at-risk mental state to chronic schizophrenia. Biol Psychiatry. 2011;70(7):619-25.
41. McGorry P, Keshavan M, Goldstone S, et al. Biomarkers and clinical staging in psychiatry. World Psychiatry. 2014;13(3):211-23.
42. Andreasen NC. DSM and the death of phenomenology in america: an example of unintended consequences. Schizophr Bull. 2007;33(1):108-12.
43. Mullen PE. A modest proposal for another phenomenological approach to psychopathology. Schizophr Bull. 2007;33(1):113-21.
44. Parnas J, Gallagher S. Phenomenology and the interpretation of psychopathological experience. In: Kirmayer LJ, Leemelson R, Cummings CA, editors. Re-visioning psychiatry: Cultural phenomenology, critical neuroscience and global mental health. New York: Cambridge University Press; 2015. p. 65-80.
45. Vollmer-Larsen A, Handest P, Parnas J. Reliability of measuring anomalous experience: the Bonn Scale for the Assessment of Basic Symptoms. Psychopathology. 2007;40(5):345-8.
46. Flemenbaum A, Zimmermann RL. Inter- and intra-rater reliability of the Brief Psychiatric Rating Scale. Psychol Rep. 1973;32(3):783-92.
47. Bell M, Milstein R, Beam-Goulet J, Lysaker P, Cicchetti D. The Positive and Negative Syndrome Scale and the Brief Psychiatric Rating Scale. Reliability, comparability, and predictive validity. J Nerv Ment Dis. 1992;180(11):723-8.
48. Morosini PL, Magliano L, Brambilla L, Ugolini S, Pioli R. Development, reliability and acceptability of a new version of the DSM-IV Social and Occupational Functioning Assessment Scale (SOFAS) to assess routine social functioning. Acta Psychiatr Scand. 2000;101(4):323-9.
49. Nordgaard J, Revsbech R, Saebye D, Parnas J. Assessing the diagnostic validity of a structured psychiatric interview in a first-admission hospital sample. World Psychiatry. 2012;11(3):181-5.
